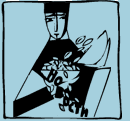Райнер Мария Рильке.
«Любой предмет взывает…»
Любой предмет взывает: «Вникни, чувствуй!»
Любая тропка молит: «Сохрани!»
День, прожитый без славы и искусства,
вернут, как счастье, будущие дни.
Кто вычислит итог? Кто отделит
нас от годов, чья поступь отзвучала?
Что мы узнали с самого начала?
То, что предмет с другим предметом слит?
Что мы - природы безучастной жар?
О, дом, о, свет вечерний, луг покатый!
К лицу поднявши этот дар богатый,
мы и самих себя приносим в дар.
Единое - и внутримировое
пространство все связует. И во мне
летают птицы. К дальней вышине
хочу подняться, - и шумлю листвою.
Да, я заботлив, и во мне - мой дом.
Я жду охраны - и я сам хранитель.
Прекрасный мир, моих волнений зритель,
рыдает дивно на плече моем.
Перевод Г. Ратгауза
Звучат стихи Рильке второй половины его творческого пути. Цикл Новых стихотворений, две части которого появились в 1907-1908-м годах, действительно, являют нам во многом нового Рильке. Если в основе «Часослова» лежали русские впечатления поэта, то энергия новых стихотворений движима иным стимулом. Живя в Париже в 1902 году, Рильке познакомился с Огюстом Роденом. В 1903 году он опубликовал о нем восторженную книгу-хвалу. В 1905-1906-м годах, в течение восьми месяцев был его личным секретарем. В творчестве французского скульптора для Рильке воплотилась его мечта об осязаемом пластическом, «на века» совершенстве, об овеществлении человеческих надежд и томлений. Если лирическое стихотворение по самой своей жанровые сути запечатленная эмоция, воплощенная текучесть, то Рильке грезится теперь нечто прямо противоположное, как он говорил - «стихотворение-п
Карусель
Люксембургский сад
В круговороте крыши и теней,
коротким вальсом вновь заворожен,
из той страны, где тает звон времен,
летит, пестрея, легкий строй коней,
И каждый конь отвагой напоен -
и вольный, и в коляску запряженный.
За ними - лев, багряный, разъяренный,
и следом важный белоснежный слон.
И словно бы в лесу, в зеленой мгле,
летит олень - уздечка золотая,
и голубая девочка в седле.
А мальчик в белом жаркими руками
вцепился в гриву льва, ошеломлен,
и лев, разинув пасть, грозит клыками.
А следом важный белоснежный слон.
А девочки постарше, пролетая,
забыв коней, несущихся прыжками,
глядят куда-то в даль за облаками,
светлея, розовея, расцветая,-
а следом важный белоснежный слон,
И все, пока не стихнет, цепенея, -
невесть куда торопится, кружит,
алея, зеленея и темнея.
И каждый контур зыбок и размыт.
И вдруг, над пестрою игрою рея,
блаженная улыбка, пламенея,
захватит дух, зажжет и ослепит.
1906. Перевод В. Леванского
Неодушевленных предметов для Рильке не существует. Оттого в корпусе «Новых стихотворений» – «Собор», «Портал», «Архаических торс Аполлона». Эти внешне застывшие каменные изваяния встают на равных правах рядом со стихами о гелиотропах и гортензиях, о пантере, о фламинго, о слепнущей женщине и о скорбящем пророке.
Слепнущая
Она, спокойно сидя меж гостей,
лишь чуть не так, казалось мне сначала,
с налитым чаем чашечку держала.
Раз улыбнулась. Словно больно ей.
Когда же встали все из-за стола
и двинулись вразброд (смеясь, болтая)
вглубь анфилад, смотрел я, наблюдая:
она вослед другим упрямо шла,
сосредоточась, как на сцене, где
ей скоро петь, робея в людном зале.
В зрачках веселых глаз ее дрожали
круги огней, как блики на воде.
Казалось, обживая трудный путь,
она преград пока не преступала,
но вот сейчас еще шагнет чуть-чуть -
и вдруг взлетит над грубым полом зала.
Перевод И.Белавина
В форму стихотворения-пр
Как спичка, чиркнув, через миг-другой
Выбрасывает языками пламя,
Так, вспыхнув, начинает танец свой
Она, в кольцо зажатая толпой
И кружится все ярче и упрямей.
И вот - вся пламя с головы до пят.
Воспламенившись, волосы горят,
И жертвою в рискованной игре
Она сжигает платье на костре,
В котором изгибаются, как змеи,
Трепещущие руки, пламенея.
И вдруг она, зажав огонь в горстях,
Его о землю разбивает в прах
Высокомерно, плавно, величаво,
А пламя в бешенстве перед расправой
Ползет и не сдается и грозит.
Но точно и отточенно и четко,
Чеканя каждый жест, она разит
Огонь своей отчетливой чечеткой.
1906. Перевод К.Богатырева
Стихотворение «Испанская танцовщица» - это, пожалуй, самый наглядный пример. Вихрем закручивающийся танец плясуньи будто только чудом не вырывается за рамки стихотворения. Остановленное пламя. Но таким же чудом является описание архаического торса Аполлона. Только процедура поэтического колдовства здесь прямо противоположная. Этот неподвижный мраморный обрубок вдруг начинает источать сияние. Безглазый, он тем не менее смотрит. Он вглядывается и внутрь себя, и в душу поэта. Безъязыкий, он тем не менее с ним говорит.
Мы не застали светоносный взгляд
подбровных яблок, в плоти камня зревших,
но торс хранит как бы огонь сгоревших
свечей... Живой, лишь убранный назад,
вглубь канделябра. Ведь иначе статью
грудь не могла б слепить, иначе б сила
улыбки в бедрах этих не сквозила,
лелея центр, в котором спит зачатье.
Тогда б в обрубке нас не волновал
плечей незримо длящийся обвал,
как чудный мех, не вспыхнули б изгибы;
в тебя лучом из каждого излома
не бил бы взгляд точеной этой глыбы.
Ты понят. Жить ты должен по-иному.
1908. Перевод И.Беланина
Как добрый волшебник, Рильке склоняется к предметам и одним прикосновением оживляется их или, точнее говоря, являет нам их дотоле скрытую, таившуюся от нас душу. И повсюду он ищет «связь» и «чертеж». Это ключевые понятия его лирики. Соединенность всего сущего в строе мировой гармонии.
«В горькой глубине моих ладоней…»
В горькой глубине моих ладоней
отрешенность твоего лица.
В мире нет предмета отрешенней.
Лунный свет на нем - печаль Творца.
Словно вещь, покорно и легко,
и руке моей прикосновенно.
Но далекое...Во всей вселенной
что живое столь же далеко?
О, как мы стремим нетерпеливо
в эту замкнутую плоскость лика
все приливы сердца,
тщетность крика -
мы себя дарили столько раз...
Но кому? Другим, не понимавшим,
нас случайно или вчуже знавшим,
не искавшим нас и не терявшим,
и ветрам весенним - придававшим,
тишине, что расточала нас...
Перевод М.Рудницкого
Может показаться, что поздний Рильке – поэт сугубо философический, отрешенный. В самом деле, традиционные темы лирики – природа, любовь, эмоциональный пейзаж души у него крайне редки. Вернее, они присутствуют, но они всегда выведены за пределы индивидуального единичного переживания, приподняты над ним и включены во «вселенский чертеж». Рильке ходил меж людей, знал счастье дружбы, внимание, понимание. Но как поэт, он жил, по его собственной формуле, «внутри вселенской души». Это не значит, что он был равнодушен к земным болям и бедам, напротив, свою сопричастность вселенной он понимал как сопричастность земному жребию тоже, снова и снова пробуя прочность нитей, связывавших его не только с цветком, статуей или звездой, но и со всеми страждущими, умирающими, с бедными умалишенными в саду. Все это образы из той же книги Новых стихотворений. Символы страстей и скорбей человеческих.
Безумные в саду
Как будто в нем как прежде есть святое.
Двор монастырский обнесен стеной.
Те, что живут здесь, тоже на покое
И далеки от суеты земной.
Все, что могло случиться, все прошло.
И вот кружат знакомою дорогой,
Встречаются и, врозь пройдя немного,
Как орбитам слепо тяжело.
Иные здесь коленопреклоненн
Работают на клумбах и у них,
Когда никто не видит из чужих,
Есть для травинки крохотной зеленой
Особенное выраженье глаз,
Просительно застенчивая ласка.
Она приветлива, трава, окраска
Пурпурных роз, да, может, и сейчас
Перерасти, опять прорвать границы
Того, что ведать их душа должна,
Но в тайне до поры хранится
Как ты тиха трава и как нежна.
Перевод Ю.Неймана
Надо прочувствовать всю серьезность его бытийной уязвленности общим атмосферным неблагополучием жизни начинающегося 20-го века. Настроения заката Европы, «сумерков богов», упадка, декаданса - духовной атмосферы вокруг Рильке, рождались тоже не на пустом месте. И Рильке их не просто впитывал в себя, а переживал. Предельная чувствительность
«Господи, слышишь – грядут…»
Господи, слышишь – грядут
новые боги.
Грохот, и скрежет, и гут
славят пророки.
Робок наш слух и раним
в громолавине
Все же хвалу воздадим
богу-машине
Все она сдюжит.
Алчуще-мстительн
нас поглотил, засосал.
Наши в ней – мозг и рука,
но от страстей далека.
Пусть себе служит.
Перевод А.Карельского
Все это, вторгаясь в величественные «чертежи» поэта, снова и снова колебало чаемую им мировую гармонию, пронизывало ее вселенским холодом и мировой скорбью. Оттого-то уравновешенная тональность стихотворений-пр
От мерного мельканья черных прутьев
всё растерял её усталый взгляд.
Ей мнится, будто прутья стали сутью
и будто пусто позади оград.
Глухая мягкость поступи упругой,
кружение без отдыха и сна -
как танец сил по крохотному кругу,
где в центре воля спит, оглушена.
Лишь изредка случайный образ глянет
в зрачок, приотворившийся едва,
и в немоту тугого тела канет,
и сгинет в сердце навсегда.
Перевод Т.Сильман и В.Адмони
На 1910 год приходится публикации романа «Записки Мальте Лауридса Бригге»
Но то, что «чародейство», оживление неодушевленных предметов, которое Рильке практиковал в новых стихотворениях, не могло исчезнуть без следа, ибо оно было не случайной прихотью «кудесника слова», а выражением неискоренимой любви к жизни. Уже сквозь трагическую музыку элегий прорываются иные, гимнические тона - быть на земле - прекрасно.
Голубая гортензия
Как в ведрах краски зелени остатки,
поблекших листьев высохли края;
и в лепестках лазурь - как не своя,
а лишь небес далеких отсвет краткий,
расплывчатый, заплаканный: для них
прошедший блеск навеки невозвратен;
и, как на старых письмах голубых,
на них следы лиловых, желтых пятен.
Как стиранный сто раз, когда-то синий,
передник детский, брошенный как хлам; -
о, жизнь так коротка в людской пустыне.
Но вдруг в одном цветке, в преображенном
сиянии, прошла по лепесткам
живая синева в венце зеленом.
1906. Перевод А.Биска
И в том же февраля 1922 года одновременно с элегиями Рильке завершает свой последний монументальный лирический цикл «Сонеты к Орфею», как бы спеша обогнать время трагедии и преодолеть роковую разорванность. Как светлый античный храм возвышаются «Сонеты к Орфею» рядом с темной готикой Элегий. «Хвала», «слава», «осанна» - ключевые понятия этого цикла. В первом же сонете Орфеев гимн сравнивается с деревом, превысившим себя, и с храмом, поднявшимся к небесам над убогостью земных убежищ.
«О, дерево! Восстань до поднебесья! …»
О, дерево! Восстань до поднебесья!
Цвети, послушный слух! Орфей поет.
И все умолкло. Но в молчаньи песне
был предназначен праздник и полет.
Прозрачным стал весь лес. К певцу теснились
и зверь из нор, и жители берлог.
Уже не хищный умысел их влек,
и не в молчаньи звери затаились, -
они внимали. Низкий рев и рык
смирился в их сердцах. Там, где недавно,
как гость незваный, оробел бы звук, -
в любой норе, убежище от вьюг,
где тьма и жадность властвовали явно, -
ты песне храм невиданный воздвиг.
Перевод Г.Ратгауза
И вот так все в этих сонетах – вертикально, устремлено ввысь. Нет, трагизм не забыт, он присутствует в полифонии сонетов, но он как бы лишен острия, обезврежен. Возвышенным, щедрым жестом принята и побеждена смерть. Орфей, этот звонкий бог, побывавший в ее царстве, стал лишь умудренней, мужественней, смелей. Трагизм бытия ему ведом, как никому другому, но взоры ему он не застилает, ибо надо быть благодарным жизни, за то прекрасное, что в ней есть. А этого прекрасного не так уж и мало. Оно ни в чем не виновато, оно достойно хвалы, и сетовать имеет право только тот, кто способен и на хвалу, потому что право на трагедию, на жалобу не достояние каждого, оно - право несуетных и мудрых.
«Не воздвигай надгробья…»
Не воздвигай надгробья. Только роза
да славит каждый год его опять.
Да, он – Орфей. Его метаморфоза
жива в природе. И не надо знать
иных имен. Восславим постоянство.
Певца зовут Орфеем. В свой черед
и он умрет, но алое убранство
осенней розы он переживет.
О, знали б вы, как безысходна смерть!
Орфею страшно уходить из мира.
Но слово превзошло земную твердь.
Он – в той стране, куда заказан путь.
Ему не бременит ладони лира.
Он поспешил все путы разомкнуть.
Перевод Г.Ратгауза
Все прежние темы возникают в сонетах Рильке, но все в высветленных, сияющими слезами омытых тонах. Образ из десятой «Дуинской элегии». Всплывает в одном из сонетов и тема России, оформляемая как подарок, как благодарение и благоговейное посвящение, а образ уже не мистически темный, монастырский, как в «Часослове», а земной, радостный образ вольного, галопом скачущего коня.
«Преподал тварям Ты слух в тишине…»
Преподал тварям ты слух в тишине.
Господь, прими же в дар от меня
воспоминание о весне.
Вечер в России. Топот коня.
Скакал жеребец в ночную тьму,
волоча за собою кол.
К себе - на луга, во тьму - одному!
Ветер гриву ему расплел,
к разгоряченной шее приник,
врастая в этот галоп.
Как бился в конских жилах родник!
Даль - прямо в лоб!
Он пел и он слушал. Сказаний твоих
круг в нем замкнулся.
Мой дар - мой стих.
Перевод В.Микушевича
В последних строках сонета «Будь прозорливее разлук», едва ли не самых прекрасных во всем цикле, варьируется давняя и любимая мысль Рильке. Мысль о тождестве поэта и мира, о растворении Орфея в пространстве вселенской души.
К щедро раздаренным, но и к безмолвно хранимым
Кладам великой природы, к неисчислимым
Звонко причисли себя и число уничтожь!
И эта мысль тоже знаменательным образом соприкасается у позднего Рильке с русской темой.
«Будь прозорливей разлук…
Будь прозорливей разлук.
Пускай за тобою зимней пургою растают они.
Ибо одна среди зим обернется такою зимою,
Что лишь возвысят тебя эти зимние дни.
Будь в Эвридике усопшим, но взвейся в Осанне,
В гимне крылатом взойди на божественный круг.
Вечно над пропастью будь у почти исчезающей грани.
В звонком стакане расколотом будь, не осколок, а звук.
Будь. Но и небытия познай и запомни законы.
Горнего взлета души источник бездонный.
И когда пред свершением ты из него зачерпнешь,
К щедро раздаренным, но и к безмолвно хранимым
Кладам великой природы, к неисчислимым
Звонко причисли себя и число уничтожь.
Перевод А.Карельского
За полгода до смерти он напишет проникновенное стихотворное послание Марине Цветаевой, своему дорогому русскому другу. «Женскому цветку на том же неопалимом кусте». Послание это – элегия, в его тоне и стиле и память о скорбных раздумьях Дуинских элегий и щемящее предчувствие близкого конца. Но Рильке открывает послание возвышенным утешением себе и своему адресату. «Не надо печалиться. О падающих звездах, - говорит он. – Они, если и потери, то потери во вселенной». А это значит, не исчезновение в небытие, а возвращение в начало начал, в неколебимую полноту мирозданья. «Уменьшить не может уход наш священную цифру». Такова его, Рильке, формула закона поэтического бессмертия.
Пусть наша жизнь - облаков
тающих тени,
Все же в основе основ
нет изменений.
Над быстротечностью той
плыл, пламенея,
звук первозданный, живой
лиры Орфея.
Страсть нам понять не дано,
нам не понять и страданья -
где наш конец? - Расстоянье
в сумраке скрыто.
Песни звучанье одно
в мире разлито.
1926. Перевод Т.Сильман